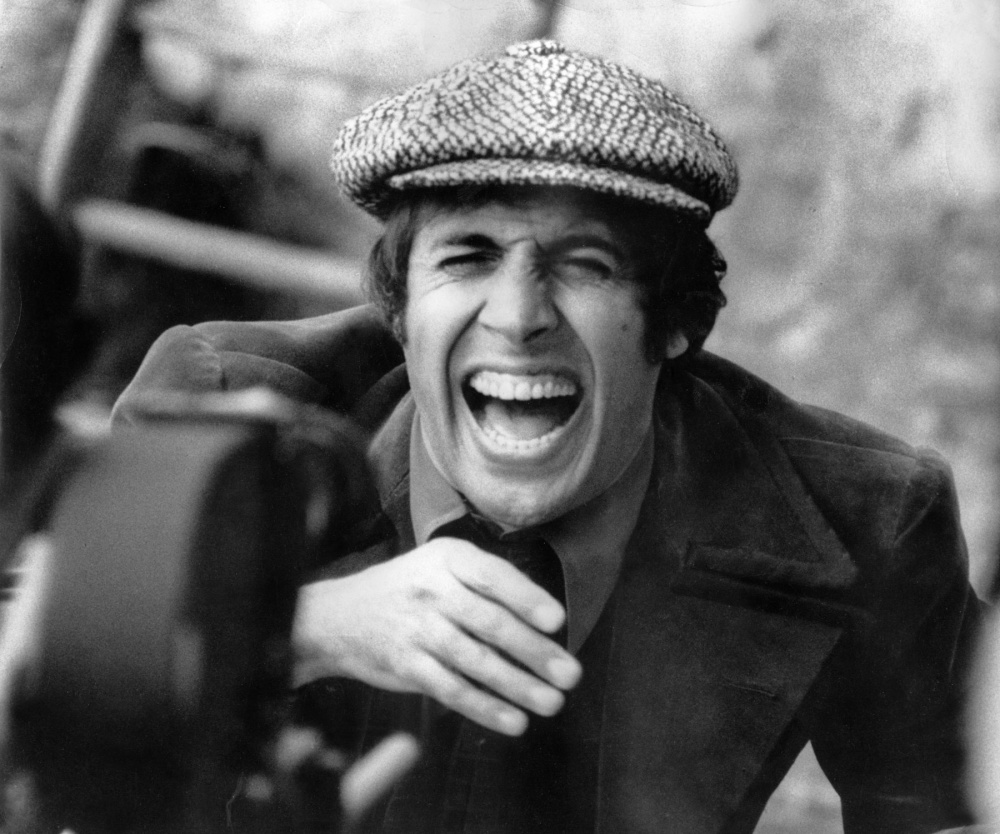Ольга Остроумова: Сочувствую подстрекателям и жалею, что не ценила время
Ольга Остроумова уже тридцать лет работает в Театре имени Моссовета. Впрочем, она никогда не придавала значения «красивым» датам и юбилеям, поскольку пафос и громкие слова, на ее взгляд, только мешают профессии

Ольга Остроумова уже тридцать лет работает в Театре имени Моссовета. Впрочем, она никогда не придавала значения «красивым» датам и юбилеям, поскольку пафос и громкие слова, на ее взгляд, только мешают профессии.
Получила две грязные анонимки
– Я прочла у Майи Туровской, что Бабанова приходила в театр, здоровалась, репетировала, прощалась и уходила, – говорит Ольга Михайловна. – Так же и у меня. Я никогда не вникала ни в какие пересуды. После репетиции бегом домой. У меня и без того слишком много дел.
– Но все же вы вспоминаете то время, когда впервые переступили порог Театра Моссовета?
– Оно вспоминается потому, что молодость всегда кажется нам романтичной и беззаботной. Хотя, если говорить объективно, время было не из легких. Тогда во всех коллективах происходили какие-то бучи. И мой переход в Театр Моссовета связан именно с тем, что здесь, в отличие от Малой Бронной, не было конфликтов. Жизнь текла размеренно, тихо, интеллигентно. Никаких собраний и коллективных лозунгов. Поэтому я сюда и перешла.
Правда, вскоре выяснилось, что здесь тоже есть подстрекатели, которые пишут куда-то письма, шепчутся в гримерках. И я перед самой премьерой получила две грязные анонимки. Слава Богу, что не стала выяснять, кто это и почему. Ясно же – в труппе много женщин, все ждут свои роли, а тут появляюсь я – еще одна конкурентка.
На меня анонимки никак не подействовали – разве что я пожалела того человека, который потратил час своей жизни на эту ерунду. Такой характер у меня от родителей.
– Вы никогда не скрывали, что ваш дедушка был священником. По советским меркам не самая почетная профессия, мягко говоря. Вам такое происхождение не мешало?
– Мне нет, поскольку серьезные шаги в жизни я делала не в столь страшную эпоху. А вот родители в сталинское время страдали не раз. Например, устраиваются на работу, но через месяц их вызывают в НКВД и говорят: «Почему скрывали, что в роду есть священник, да еще и в третьем поколении?! На сборы 24 часа». Так они вынуждены были переезжать с места на место в надежде, что жизнь когда-то наладится.
Пострадал и дедушка. Восемь лет он провел в лагерях, вернулся только в конце войны, а умер в 1960-е годы в кабинете начальника КГБ, когда поднимали налог на церковь… Но это к слову.
Так вот, несмотря на все тяготы, у нас в семье было удивительное отношение к вере и к самому дедушке. Лето мы проводили у него в Бугуруслане (Оренбургская область), и я видела, каким уважением пользуется наш священник: всякий раз, когда мы шли с ним по улице, к нему обязательно подходили соседи – посоветоваться. Любили его очень.
При этом жил он скромно. Домик был маленький, из двух комнат, и если хозяин отдыхал, то бабушка (матушка Антонина) блюла его спокойствие невероятно. Еще огородик у них был. И дальше шла дорожка через кладбище в церковь, где дедушка служил. Часто этой дорожкой ходили и мы. Брали подстилку, расстилали ее между могилами и читали. Страха не было, потому что кладбище старое, заросшее черемухой и сиренью. Умиротворяющее, уютное место. Иногда мы помогали во время службы: например, держали шлейф от платья невесты, хотя никто нас не заставлял. В вере мы… просто жили. Дышали этим воздухом. И это то, что до сих пор держит меня на земле.
– А потом в сентябре шли в школу и понимали, наверное, что дедушка живет совсем в другом мире?
– Нет, такого не было. Нас ведь никто не принуждал жить по церковным канонам. Все шло своим чередом. Однажды мы, юные пионеры, прибежали к нему с «каверзным» вопросом для «темных»: «Дедушка, а что, гром – это Илья-пророк на колеснице, да?» В ответ он рассказал нам о библейском пророке Илии, о его чудесном вознесении на небо, а потом объяснил, что такое гром с точки зрения законов физики. Он был очень образованным человеком и умел просто объяснять. Никакого противоречия между двумя «версиями» мы не нашли.
Вечерами вся наша семья собиралась в беседке, там у дедушки был свой стул возле самовара. И когда мы ужинали, из городского сада доносились звуки духового оркестра, а из кухни пахло ароматными пирогами. Вот это ощущение семьи забыть невозможно. Оно во многом повлияло на меня, на моих сестер и брата.
– Получается, что детей в доме особо и не наказывали?
– Нет, хотя строгость была. Однажды я привезла из Оренбурга конфеты «Кара-Кум» в подарок. И когда к нам в гости приехал священник, бабушка пошла за этими конфетами и увидела, что в пакете всего две штучки осталось, потому что остальные я съела. Она рассердилась, но крика не было. Я вообще криков от нее никогда не слышала. Кстати, и папа наш (по профессии учитель физики) был точно таким же. Но при этом его молчание и недовольство воспринимались нами гораздо глубже, чем всевозможные мамины нотации.
Подумаешь, сыграла в «Доживем до понедельника»
– А как родители отнеслись к вашему желанию стать актрисой?
– Вполне спокойно. Мама напекла пирожков и собрала в дорогу, хотя знакомых в Москве у нас не было. Но такое легкое дыхание было в семье: хочешь в артистки – поезжай.
– И ведь насколько благосклонной оказалась судьба: фильм «Доживем до понедельника» вышел на экраны всего через два года после вашего поступления в ГИТИС…
– Это понимаешь только сейчас. А тогда даже и мыслей о «судьбе» не возникало. Подумаешь, школьницу сыграла! Фильм я оценила лишь пятнадцать лет спустя, когда включила телевизор и оказалось, что идет «Доживем до понедельника». Прежде я не хотела его смотреть, поскольку на первую свою работу смотреть невозможно. Всегда думаешь, что ты совсем не такая.
Мне, наверное, повезло, ведь я со студенческих лет снималась. И большие роли играла, не дожидаясь окончания ГИТИСа. В этом, безусловно, заслуга Павла Осиповича Хомского (ныне худрук Театра им. Моссовета. – Ред.) – нашего педагога. Он был первым, кто принес в институт дыхание живого театра, первым, кто с нами начал общаться не как со студентами, а как с настоящими артистами – без всяких сюсюканий, без скидок на то, что мы маленькие. Он говорил, например: идите приготовьте эту пьесу, покажите мне ее через две недели. И мы шли самостоятельно что-то ковырять, как в настоящем театре. Хотя что мы там могли наковырять! Но старались очень.
Собственно в ТЮЗ – первый мой театр – я тоже попала благодаря Хомскому (он взял с нашего курса четырех человек). Вот это была школа!
Стараюсь быть мягкой
– С Эфросом тоже обходилось без сюсюканий?
– Однажды на репетиции у Эфроса (я была уже актрисой Театра на Малой Бронной) мы играли «Веранду в лесу» по пьесе Дворецкого. И вдруг Анатолий Васильевич громко при всех меня похвалил. Услышать похвалу от Эфроса – все равно что получить Нобелевскую премию. И я, потеряв голову от счастья, ответила ему комплиментом на комплимент: «Ну, конечно, Анатолий Васильевич, я ведь первый раз играю в профессиональном театре». Боже, как мне потом стыдно было, что сказала, не подумав. Ведь и ТЮЗ очень многое мне дал, и режиссер Александр Дунаев, с которым в Театре на Малой Бронной я репетировала во «Врагах» и в «Волках и овцах». А самое страшное, что в тот момент работала трансляция, и Дунаев, сидя в своем кабинете, безусловно, эту фразу услышал. Но он не затаил на меня зла и ни разу не припомнил.
– Вы в работе строгий человек?
– Очень. И даже беспощадный. Я ведь и к себе довольно беспощадна, могу сказать: «Господи, ну какая же я дура – не разобралась с режиссерской задачей». Или могу партнера своего пожурить: мол, ты неправильно играешь. Все это происходит в запале, но не со зла. Сейчас с возрастом я, наверное, стала помягче. Раньше мне и дома говорили: «Мама, ты такая прямолинейная, такая резкая бываешь». Но я стараюсь быть мягкой.
Кстати, сыграв в фильме «Василий и Василиса» по Распутину, я поняла, что прощение превыше всего и что прощать надо при любых обстоятельствах.
– Следуете этой заповеди?
– Стараюсь, хотя получается не всегда. Все мы люди, и у нас между умом и сердцем расхождение бывает колоссальное. Ум говорит, надо простить, а сердце не может.
– А для Валентина Иосифовича вы тоже резкий критик? Или дома разговоров о творчестве стараетесь избегать?
– Зачем же избегать! Кто тебе правду скажет, как не близкий человек? Критикуем друг друга, спорим, обсуждаем… Это моя принципиальная позиция. Комплиментиков и без того ведь хватает. Тут важно все время бить себя по затылку, чтобы не плыть по течению.
[:image:]
На выступлениях Гафта смеются, на моих плачут
– Сейчас вы с Гафтом выступаете в совместной концертной программе. Сложно с ним репетировать?
– А мы не репетировали. Решили так: я выступаю в первом отделении, а он – во втором. Но так не нарочно получилось. Просто у каждого из нас уже были сольные программы – теперь мы решили их объединить. На моем выступлении плачут, на его смеются. В итоге получается такая объемная картина мира.
– Он критик жесткий?
– Нет. Валя говорит: «Как только ты выходишь на сцену, у меня уже наворачиваются слезы».
А если отвечать на вопрос серьезно, то у нас с ним разное отношение к театру. Он может, например, одну и ту же роль играть столько, сколько скажут. Я так не могу, поскольку теряю интерес, возникает ощущение отыгранности, как было у нас со «Вдовьим пароходом» Генриетты Яновской в Театре Моссовета. Сначала из спектакля ушла Наташа Тенякова, потом умерла Элла Бруновская. И я решила больше не играть, поскольку общий рисунок произведения стал совсем другим. Я потеряла интерес, хотя коллеги удивлялись: «Как?! Ты отдаешь такую блестящую роль?!» А я абсолютно к ней охладела. Ну, поиграла, и хватит.
– У вас есть некий индикатор, который вам говорит, что пора двигаться дальше?
– Разумеется, этот индикатор всегда один – зрительный зал. По его реакциям сразу понятно, достиг ли ты предела в своей роли или остается еще пространство для творчества, возможность полета.
– Погодите, но ведь зрительный зал может ошибаться!
– Такое тоже бывает. Тут все зависит от того, своя публика на спектакле или случайная.
У нас шел, например, кассовый спектакль «Мужчины по выходным». И когда его только выпустили, я и еще ряд артистов заявили, что если эта пошлость будет идти на нашей сцене, то мы уйдем из театра. Но, правда, так и не ушли – смирились…
Спектакль играли несколько лет, он собирал полные залы, а я всякий раз радовалась, что имею право не участвовать в таких постановках и что на дворе уже не советские времена, когда тебя принуждали работать в примитивных спектаклях.
Один из моих сформировавшихся принципов: никогда не будь с толпой. Даже если у толпы благие намерения.
– Получается, что ваше имя под открытыми письмами не встретишь?
– Я подписывала только письма в защиту собак, когда Елена Камбурова меня просила. Кстати, это человек, которым я всегда восхищалась. Есть люди, за которыми хочется идти. В моей семье, кроме дедушки, таким человеком был папа. На свою учительскую зарплату он покупал книги и собрал невероятную библиотеку. Мама ворчала: «Опять ты свои книги тащишь». А он улыбался. И каждая книга становилась настоящим подарком. Я помню, как читал он нам с братом «Остров сокровищ». И чувство благодарности к нему я пронесла через всю жизнь – восхищалась отцом в первых своих интервью, но однажды он мне сказал: «Вот ты все время рассказываешь про меня, но если бы не мама, не ее постоянный домашний труд, то ничего бы и не вышло».
Он абсолютно прав. По сей день жалею, что была тогда необъективна.
– А в чем еще по молодости вы были «необъективны»?
– Я не ценила время. Думала, что все успею – не надо торопиться. В итоге не посмотрела многих замечательных спектаклей. Мало я видела Высоцкого, пропустила молодой «Современник»…
Но кроме того, я жизнь ощущала совершенно иначе. Понимаешь это сегодня по фильму «...А зори здесь тихие». Столько лет прошло, а смотреть не могу: ну явно не хватило мне житейского опыта, чтобы сыграть Женю Комелькову. Сегодня, будь моя воля, сделала бы все по-другому./