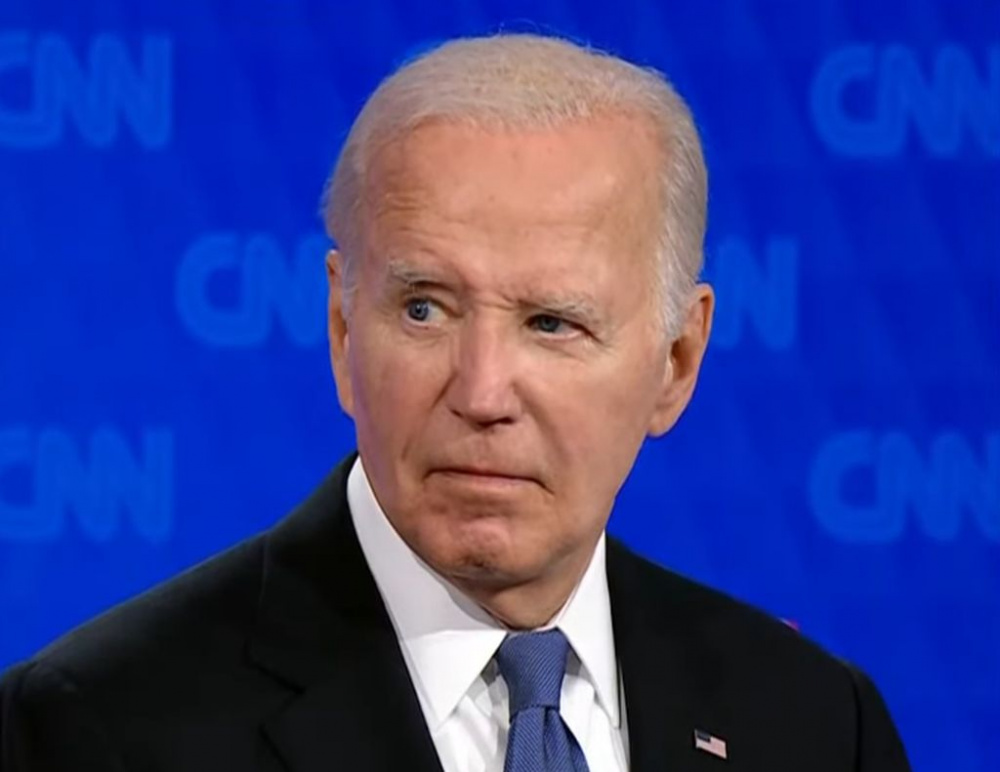Андрей Звягинцев: Стою, плачу, кровь течет...
Успешный режиссер признается, что не знает рецептов успеха
Успешный режиссер признается, что не знает рецептов успеха
Год еще не подошел к концу, но уже очевидно, что по его итогам одной из самых успешных картин, оправдавших ожидания и кинокритиков, и зрителей, станет «Изгнание» Андрея Звягинцева. Мы договорились о встрече в обычном московском кафе, куда Андрей приехал на метро: ни тени звездности.
 – Правда ли, что в первоначальном монтаже «Изгнания» был другой финал, а заключительная сцена с поющими жницами находилась в середине картины?
– Правда ли, что в первоначальном монтаже «Изгнания» был другой финал, а заключительная сцена с поющими жницами находилась в середине картины?
– Да. В первоначальном варианте финала герой просто уезжал, мы видели общий план. Мне это показалось недостаточным, стандартным, что ли, ходом: сколько фильмов заканчивается дорогой, начиная еще с картин Чаплина. Я вам больше скажу про этих жниц: месяца три я отбивался от настойчивых просьб их убрать. Даже продюсер картины Дима Лесневский говорил: «Андрей, давай уберем!» Не нравилось ему: посконно как-то, тетки поют, какой-то концерт. А потом, когда фильм был отобран в Канны, произошла забавная история. Отборочная комиссия фестиваля (возможно, самый уважаемый в мире комитет киноэкспертов) передала на словах свою единственную рекомендацию: убрать теток в финале. Представляете? (Смеется.) История закончилась тем, что я показал Диме Лесневскому другие возможные варианты финала, и в итоге он согласился с тем, что они хуже. Так что теток мы все-таки оставили.
– Вы пришли в режиссерское сообщество из артистов. И сразу завоевали успех. Двух венецианских «Львов», как вам за «Возвращение», не всякому дают. Как теперь у вас складываются отношения в профессиональной среде?
– Скажу странную вещь, для вас, может быть, удивительную: режиссеры, по сути дела, не общаются друг с другом. Кто-то, разумеется, давно дружит, но основная масса в целом очень разрозненна. Как сказал мой приятель-психотерапевт, ревность и зависть – страшный бич, мешающий человеку жить полной жизнью. И мое субъективное мнение: именно этим многое определено в отношениях режиссеров к своим коллегам. В особенности это касается людей успешных.
– Не кажется ли вам, что ваши картины соответствуют представлениям Запада о российском кино (малобюджетное, метафизичное, с замедленными планами)?
– Очень поверхностное представление. Нет рецепта, что нужно сделать с фильмом, чтобы на Западе он пользовался успехом. У меня не было никакого умысла снимать так, чтобы там понравиться. Я не знаю этого мира, не представляю себя в том контексте. Мне эта культура незнакома. Что им интересна русская душа – это все общие слова.
– Есть мнение, что Россия так и не стала христианской страной. Библейские аллюзии здесь непонятны. Вы как-то рассказывали случай, когда даже образованный зритель не понял символического смысла вина в «Возвращении».
– Да, я однажды прочел в какой-то газете: «Не верю, русский мужик садится за стол и вместо водки разливает вино – бред!» Это правда, что водка – наш национальный продукт. Но если человек знаком с христианской символикой, то он понимает, почему на столе вино. Большинство же вообще не считывают никаких символов – привыкли, что смотрят некую бытовую историю о Пете и Васе. И не видят за этой горизонталью вертикали.
– Какое ваше самое яркое детское визуальное впечатление?
– Видите этот шрам? (Андрей показывает небольшой шрам на лице.) Я получил его, когда мне было два года. Родители оставили меня у бабушки на Украине, я жил там месяца два. И вот однажды вечером я один вошел в большой сад, где росли груши и яблоки. Представьте себя на месте ребенка: ведь если взрослый человек видит листву, то ребенок – лишь стволы и над ними свод. Это огромное пространство с длинной перспективой. И вот я смотрел на эти стволы в сумеречном из-за теней свете, хотя над кронами еще светило солнце. Прекрасно помню эти образы. И что-то меня сильно напугало. Я развернулся и побежал. И вот я бегу на свет – включена лампа, бабушка готовит ужин для своих сыновей. А это Украина, глинобитные такие сооружения… Я вбегаю в дверной проем, там стоят игрушки, я о них спотыкаюсь и падаю на глиняную крынку с отбитым краем. В ней хранилась соль. Я все это почему-то помню. Падаю, у меня вся щека в крови, а бабушка ставит меня в угол. Стою в углу, плачу, кровь течет. Потом выхожу из угла и вижу в дверном проеме телевизор – два брата моего отца смотрят футбол. Один из них увидел меня и сделал бабушке выговор: «Что ты, с ума сошла?» Уже гораздо позже я понял, что она просто не могла заниматься мной, она готовила, у нее не было времени.
– В жизни вы производите впечатление человека веселого и легкого, а кино у вас тяжеловесное и торжественное. Нет ли желания как-нибудь сблизить эти вещи?
– Я же не решаю заранее: так, сделаю-ка я тяжелое кино, буду торжественно поднимать камни, как Сизиф. Снимаю то, что просится, что волнует.